Сумерки в Вранбурге были густыми, и Селин с Леей вписались в них идеально — две изящные девушки возвращались домой после салона красоты.
У двери, прислонившись к граниту, стоял мужчина. Он не прятался, но и не привлекал внимания — будто ещё одна трещина в фасаде, ожившая и принявшая форму. Калеб.
Он увидел Лею первым. И улыбнулся. Улыбка была неширокой, усталой, но в ней была подлинная узнаваемость.
— Лея. Твоё новое «лицо» невероятно… загорелое. Стилист явно не сторонник бледной кожи, — его голос был низким, бархатным, но в нём чувствовалась стальная нить. Сарказм. Первая же фраза.
Лея не смутилась. Она фыркнула.
— Калеб. Решил проверить, не обрастаю ли я мхом в своей берлоге? Какой трогательный интерес.
— Берлога? — он поднял брови, и его взгляд скользнул по фасаду. — Мне всегда казалось, это больше похоже на частный мавзолей с претензией на готический роман. Но, видимо, у каждого своя эстетика.
И только тут он, наконец, медленно перевёл взгляд на Селин. Она замерла. Вся её веселость испарилась, сменившись ледяным шоком. Она не видела в нём угрозы — она видела осквернение. Их с Леей порог. Их убежище. И этот… этот он стоит здесь и отпускает колкости.
— Селин, — произнесла Лея, и в её голосе прозвучала лёгкая нотка неуверенности. — Это Калеб. Мы… иногда пересекаемся.
Калеб сделал безупречно вежливый полупоклон.
— Мадемуазель Дюмон. Я в курсе, кто вы. Ваши… выступления… производят впечатление даже на тех, у кого пульс — понятие абстрактное. Лея иногда бывает немногословна, но она упоминала, что делит свой мавзолей с живой знаменитостью. Теперь я вижу, она не преувеличивала.
Это был комплимент, завёрнутый в провокацию. Он назвал их дом мавзолеем, намекнул, что Лея о ней рассказывает, и признал её весомость, но с лёгким оттенком насмешки.
— Он. Ожидает. Приглашения? — голос Селин прозвучал хрустально чисто и смертельно тихо. Она обращалась только к Лее.
— Обычно нет. Но сегодня, видимо, светская формальность, — пожала плечами Лея, но глаза её сузились.
Калеб не дожидался. Он повернул ручку (дверь не была заперта, так как никто из местных не решался даже близко подойти к особняку) и вошёл внутрь. Первым. Селин почувствовала, как по спине пробежала волна ярости. Он вошёл в их дом. Как к себе.
В мрачном зале Калеб огляделся с видом искусствоведа на сомнительной выставке.
— Атмосферно. Наполовину декор, наполовину естественный упадок. Сложно отличить.
— Зато крыша не течёт, — парировала Лея. — В отличие от твоей последней «обители», если я правильно помню.
— Она не текла. Она пропитывалась мудростью веков в жидкой форме, — парировал Калеб, и в его глазах сверкнула искра. Он был опасен не клыками, а умом и языком.
Селин осталась стоять у двери. Её глаза в полумраке горели огнём.
— Объяснение, — произнесла она, наконец обращаясь прямо к нему. Это было не слово, а обвинение. — У вас есть тридцать секунд. И затем вам стоит исчезнуть. Вы портите воздух.
Калеб встретил её взгляд без страха. С тем же саркастическим любопытством.
— Прямо и без церемоний. Что ж. Осталось так мало наших, кто не спился, не влюбился в рассвет и не решил, что вечность — это скучно. Список живых стал короче винной карты в дешёвом ресторане. — Он сделал паузу, его взгляд стал тяжелее. — Когда вымираешь как вид, поневоле начинаешь ценить старые знакомства. Даже такие колючие. Я пришёл проведать Лею. Убедиться, что она ещё не надела на себя бусы из чеснока.
Лея замерла, её игривость улетучилась. Она смотрела то на Калеба, то на Селин.
Селин чувствовала, как её мир — чёрно-белый, простой, где есть только Лея, а все остальные враги — трещал по швам. Этот вампир говорил о вымирании их вида с той же усталой иронией, с какой они с Леей говорили о смертных. Он был как осложнение. Живое, остроумное и невыносимое.
— Может дамы хотят выпить вина? — соблазнительно предложил Калеб, доставая из внутреннего кармана плаща старую бутылку.
— Вино, говоришь? — бросила она через плечо, направляясь в сторону кухни, — Это либо очень смело, либо очень глупо.
— Я всегда предпочитаю первое, — отозвался Калеб, без приглашения последовав за ней. Его шаги были бесшумными, но в них чувствовалась твёрдая уверенность, а не осторожность. — Хотя, должен признать, глупость иногда бывает увлекательнее. Как, например, решение дружить с тем, кто считает твой вид исчадием ада.
Лея, оставшись в зале, закатила глаза.
— О, боги, начинается. Два саркастичных сноба на одной кухне. Мне нужно больше вина для этого.
Она последовала за ними, наблюдая, как два шторма готовятся столкнуться в ограниченном пространстве, пахнущем старым деревом и пылью.
Калеб поставил бутылку на стол. Стекло глухо стукнуло о древесину.
— Сомелье из меня, конечно, никудышный, — сказал он, изучая полки с редкой посудой. — Но этот напиток хранит вкус эпохи, когда люди ещё знали толк в настоящей тьме. Не в этой… жалкой имитации, — он кивнул в сторону окна, за которым меркли последние отсветы дня.
— Напоминаешь старика, ностальгирующего по чуме, — проворчала Селин, доставая три бокала. Она поставила их перед ним с таким видом, будто выдавала оружие. — Потому что тогда, видимо, было интереснее.
— Именно, — Калеб начал с невозмутимым видом разливать вино по бокалам. — Чума была честнее. Она не пряталась за улыбками. Она просто убивала. Как и мы, если уж на то пошло.
Лёд в голосе Селин треснул.
— Не смей сравнивать себя с болезнью. Болезнь — это сила природы. Вы — её извращение.
Калеб поднял на неё взгляд. В его голубых глазах не было гнева, лишь холодное, аналитическое любопытство.
— Извращение, — повторил он задумчиво. — Любопытный выбор слова. А магия, которая заставляет законы реальности подчиняться воле одной особы? Это что — благородное искусство? Или просто другое извращение, но более… элегантное?
Воздух на кухне сгустился. Лея, наблюдающая за ними, почувствовала знакомый статический треск — предвестник магии Селин. Но взрыв не последовал.
Вместо этого Селин медленно улыбнулась. Это была не та улыбка, что светилась с обложек журналов. Это был оскал хищницы, почуявшей достойную добычу.
— Ты пытаешься философствовать, вампир? С твоих губ это звучит как лай пса, пытающегося процитировать Шекспира. Мило. И бесполезно.
— Возможно, — согласился он, наливая тёмно-рубиновую жидкость в другие бокалы. — Но даже пёс может укусить. Особенно если его дразнить. — Он протянул бокал Селин. — За старые времена. Которые, в отличие от нас, действительно мертвы.
Она взяла бокал. Она смотрела на него, и её взгляд был острее любого лезвия.
— Я не пью с такими вампирами, как ты.
— О, прошу прощения, — Калеб сделал преувеличенно озадаченное лицо. — А чем вы тогда утоляете жажду по вечерам, мадемуазель Дюмон? Музыкой органа и презрением? Потому что, — он понюхал воздух с преувеличенной театральностью, — здесь явно не пахнет ни чаем, ни какао.
Лея не выдержала и рассмеялась — коротким, хриплым звуком, похожим на скрип старого дерева.
— Она пьёт адреналин толпы и слёзы критиков, Калеб. Разве не очевидно?
Селин повернула голову и посмотрела на Лею. В её взгляде была не ярость, а что-то более сложное — укор, смешанный с болезненной близостью. Эта шутка прозвучала как предательство. Как будто Лея встала на сторону этого незваного остряка.
— Выпей, Селин, — сказала Лея, и её голос смягчился, став почти обыденным. — Он отравлен только высокомерием. А с
ним ты, кажется, уже сроднилась.
Молчание повисло тяжёлым полотном. Калеб держал бокал на весу, его лицо было непроницаемой маской учтивого ожидания.
Наконец, Селин нехотя выпила из бокала. Её пальцы сомкнулись на хрустале так, будто она собиралась его раздавить.
— За ваше скорое исчезновение, — произнесла она ледяным тоном.
Калеб чокнулся с её бокалом. Звон был чистым и зловещим в тишине дома.
— За новые… осложнения, — парировал он, и его взгляд встретился с её взглядом поверх краёв бокалов.
Вино было холодным, терпким и бесконечно сложным. Оно пахло временем, которое она ненавидела, и миром, который презирала. И в этом была какая-то извращённая, горькая поэзия.
Калеб поставил бокал с тихим, но чётким стуком, поставив точку в их странной «беседе».
— Я остаюсь, — заявил он просто, как если бы сообщал, что на улице пошел дождь.
Слова повисли в воздухе, такие же неоспоримые, как гранит стен.
— Ты… что? — голос Селин был тихим, но в нём зазвенела сталь, готовая расколоться.
— На неделю, — уточнил Калеб, его взгляд скользнул по её лицу, будто изучая реакцию на химическом уровне. — Вымирающий вид имеет право на последнюю… инспекцию. Мне нужно понять, во что превратилась моя последняя здравомыслящая соплеменница, закопавшись в этом каменном мешке с местной достопримечательностью.
— Ты не сделаешь здесь и шага, — прошипела Селин. Магия, холодная и острая, сконцентрировалась в её ладонях, заставив воздух над кожей мерцать синевой. — Здесь не отель для ночных тварей.
Калеб не отступил. Напротив, он сделал шаг навстречу, и это движение было настолько плавным и бесшумным, что от него похолодело внутри.
— О, мадемуазель Дюмон, — произнёс он с лёгкой, ядовитой учтивостью. — Я и не надеюсь на гостеприимство. Я ожидаю терпимости. С минимальным количеством попыток поджарить меня на месте. Рассматривайте это как культурный обмен: я изучаю жизнь волшебницы-затворницы, а вы… тренируете свою способность не убивать всё, что вызывает у вас аллергию.
— У меня нет аллергии. У меня есть принципы. И ты — ходячее их нарушение.
— Принципы, — повторил он, и в его голосе прозвучала горечь, столь же древняя, как и он сам. — Прекрасная ширма для страха. Ты ненавидишь не меня, Селин. Ты ненавидишь тот факт, что я — живое доказательство, что твой маленький, удобный мирок, где есть одна «хорошая» вампирша и все остальные монстры, — иллюзия. Может быть я здесь, чтобы эту иллюзию разбить?
Он обернулся к Лее, которая стояла, замерши, будто видя приближение неминуемой катастрофы.
— Лея, дорогая, я займу ту комнату на втором этаже. Ту, что с видом на кладбище. Иронично, но это напомнит мне о доме.
И, не дожидаясь ответа, он вышел. Его шаги не звучали на старых половицах. Он просто растворялся в темноте коридора, становясь её частью.
Селин стояла, сжав кулаки так, что ногти впились в ладони. В ушах звенело. Он назвал её по имени. Просто «Селин». Без титула, без насмешки в голосе в тот миг. Как равную. Как… знакомую. И от этого было в тысячу раз невыносимее, чем от любой колкости.
Лея выдохнула, и звук этот был похож на стон.
— Он… он всегда был таким. Когда он что-то решает…
— Он что, твой бывший? — сорвалось у Селин, и её собственный вопрос оглушил её своей дикостью и остротой.
Лея фыркнула, но в звуке не было веселья.
— Пожалуйста. У нас с ним никогда не было ничего столь… банального. Мы просто пережили одни и те же тёмные века. Он как… надоедливый брат, который появляется, чтобы напомнить тебе, от какого дерева ты отпала.
— Замечательно. Теперь в нашем доме живёт твой надоедливый бессмертный брат. На неделю. Неделю, Лея! Как, по-твоему, это закончится?
— Либо ты его убьёшь, либо он доведёт тебя до того, что ты сама захочешь сжечь этот дом дотла, — честно ответила Лея. — Третий вариант я пока не вижу.
Селин погасила пламя. Внезапная тьма была ещё гуще.
— Он хочет разбить мой мир? — она прошептала в пустоту, и в её голосе впервые за вечер прозвучало нечто кроме гнева — холодное, опасное любопытство. — Хорошо. Пусть попробует.
Она повернулась и направилась в гостиную, к массивному, покрытому пылью органу. Она откинула крышку и с силой ударила по клавишам. Громкий, диссонирующий аккорд разорвал тишину дома, эхом прокатившись по пустым залам.
Наверху, в комнате с видом на кладбище, Калеб, прислонившись к оконному косяку, услышал этот звук. На его губы медленно наползла улыбка — не саркастическая, а заинтересованная, словно учёный, услышавший долгожданный сигнал от своего эксперимента.
Он смотрел в ночное окно, но видел не могилы. Он видел отражение комнаты и своего собственного лица. И в его глазах горел не голод, а азарт.


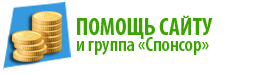
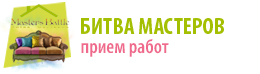


























 ,
, 





















 На фикбуке я раньше по фендому писала, но работы как-то не заканчивала, удаляла. Я тоже не любительница подобного, но мне давно хотелось что-то в этом духе посочинять, так сказать открыть для себя новое. И здесь на сайт буду заливать и туда
На фикбуке я раньше по фендому писала, но работы как-то не заканчивала, удаляла. Я тоже не любительница подобного, но мне давно хотелось что-то в этом духе посочинять, так сказать открыть для себя новое. И здесь на сайт буду заливать и туда 
 , надеюсь, тут ты доведёшь до финала, с картиночками писать интереснее
, надеюсь, тут ты доведёшь до финала, с картиночками писать интереснее .
. . Иронично, но первая книга, которую я написала - ромфант, терпеть его не могу
. Иронично, но первая книга, которую я написала - ромфант, терпеть его не могу . Не нравится, как делают другие, сделай сама!
. Не нравится, как делают другие, сделай сама! , ну и здесь атмосфера обязывает.
, ну и здесь атмосфера обязывает. , но здесь он прям ар-р-р-р
, но здесь он прям ар-р-р-р
 Обожаю такие словесные "перестрелки"
Обожаю такие словесные "перестрелки"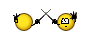
























 обожаю эту сладкую "парочку"!
обожаю эту сладкую "парочку"! 



























 Калеб довыделывался!
Калеб довыделывался!


















